переделкино старые дачи фото
Дачи знаменитых литераторов в Переделкино. Архитектура
О том, что такое настоящая «русская дача», может знать лишь человек, не раз посетивший её и прочувствовавший всю прелесть загородной жизни. Для полного понимания необходимо провести пару недель вне городской суеты: с утра вдыхать полной грудью свежий воздух, наслаждаться ароматами цветущего сада, слушать пение птиц, распробовать простоту, спокойствие и размеренность бытия вдали от вечной спешки, шума и большого потока людей.
Как же в нашей стране появились дачи?
Возникновение первых дач приписывают началу XVIII века – эпохе Петра I. Первоначальное значение — «дарованная князем земля», да́ча «принесение в дар» (укр.). Первые дачи были подарены царём знатным особам за заслуги перед государством. И это были не просто небольшие участки земли с простенькими строениями, а потрясающие усадьбы под Петергофом. До середины XIX века дачи оставались привилегиями аристократии, которая уставала от городской жизни и летом проводила выходные, спасаясь от духоты и зноя. Люди с меньшим достатком не могли приобрести дачу в частную собственность, поэтому снимали их на лето. В те времена выезд за город стал модным и престижным, подобному отдыху стали отдавать большее предпочтение, чем поездкам заграницу. А когда 1936 году построили железные дороги, то «дачный бум» набрал полные обороты.
Стоит заметить, что жизнь в загородных домах не предполагала тяжёлой работы на огороде, только постановление Совета Министров СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» 1949 года дало развитие коллективному и приусадебному садоводству. Правда, современные строения дач всё больше походят на красивые загородные усадьбы в 2 – 3 этажа. Часто встречается продуманный ландшафтный дизайн с небольшими по площади зонами, отведёнными для выращивания некоторых фруктов и овощей.
Сегодня мы представим некоторые дачи, на которых жили и проводили свои летние дни знаменитые русские литераторы. В 1934 году правительство Москвы выделило земли в Переделкино под постройку писательского городка. Это прекрасное место было известно уникальным микроклиматом, который возник благодаря окружению сосновых лесов. Здесь имели возможность жить, вдохновляться и творить всенародные любимые русские писатели. Дома им предоставлялись на правах безвозмездного и бессрочного пользования. Некоторые дачи стали музеями, которые мы можем посетить и изучить особенности интерьеров и жизнедеятельности их прежних обитателей.
«В комнатах стояли нары». С чего начинались писательские дачи в Переделкине
«Дача» в этом году — главное слово для всех отпускников. Так почему бы не рассказать о легендарных дачных местах вокруг Москвы, подумали мы. И решили начать с Переделкина — культового места с 85-летней историей, поселка, где рождались книги Пастернака и Чуковского, впервые читали свои стихи Ахмадулина и Рождественский и гостили Высоцкий, Солженицын и Плисецкая.
Поселок Переделкино расположен в 5 километрах от МКАД, сегодня он часть Новой Москвы. Но к новостройкам, с которыми обычно ассоциируют данный столичный округ, это место, конечно, никакого отношения не имеет. Одноименная платформа была открыта тут еще до образования СССР, в XIX веке. Никакой организованной сельской жизни с удобствами на рубеже веков в Переделкине, правда, не было, но зато потом она буквально забила ключом — и поселок стал центром притяжения столичной интеллигенции. По крайней мере, в летние месяцы точно.
В начале 1930-х вокруг Москвы стали появляться первые дачные кооперативы — в них давали дома писателям, художникам, ученым. Принято считать, что идея создания отдельного писательского городка такого типа принадлежала Максиму Горькому: он якобы рассказал Сталину о том, как живут европейские литераторы в своих загородных резиденциях, и в 1933 году Совнарком учредил постановление «О строительстве „Городка писателей“». К 1935 году в Переделкине построили около 30 деревянных писательских дач. Дома были довольно простыми: одно- или двухэтажными, но зато с просторными светлыми террасами; за проект отвечал немецкий архитектор Эрнст Май.
Стать жителем Переделкина, просто придя с улицы, было невозможно. Каждую дачу закрепляли за отдельным писателем — пожизненно и бесплатно
Правда, после смерти хозяина семья должна была покинуть дом в течение полугода: дача переходила к другому его коллеге.
В первой волне поселившихся в Переделкине были Исаак Бабель, Илья Эренбург, Илья Ильф и Евгений Петров, Артем Веселый и даже Лев Каменев — некоторые из них были вскоре репрессированы, и дома перешли к новым хозяевам.
Живыми легендами Переделкина считались Борис Пастернак и Корней Чуковский: оба прожили там до конца своих дней, а в их домах теперь располагаются мемориальные музеи. Дом Чуковского, впрочем, еще при жизни писателя был центром притяжения: все переделкинские дети помнят праздничные костры в начале и в конце лета, которые устраивал «дедушка Чуковский». А взрослые вспоминают многочисленных именитых гостей Корнея Ивановича, среди которых, например, неоднократно бывал Солженицын.
Позже в Переделкине поселились Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Василий Аксенов и другие шестидесятники. Дома у Ахмадулиной собирались не только соседи, но и весь творческий авангард того времени: приезжали Владимир Высоцкий и Майя Плисецкая, гостили иностранные писатели и журналисты, — это было, пожалуй, самое яркое и насыщенное время в жизни поселка.
Сегодняшнее Переделкино утратило былое очарование: рядом с чудом сохранившимися писательскими дачами (их становится все меньше) можно увидеть построенные в 90-х каменные «замки». Но приехать сюда на прогулку можно и нужно — сводить детей в Дом-музей Корнея Чуковского, заглянуть на бывшие дачи Пастернака и Окуджавы (там тоже сейчас музеи), побродить по улицам, как это любили делать все знаменитые жители поселка: сначала по «малому кругу», а потом совершить путешествие «вокруг света».
Тина Катаева, внучка писателя Валентина Катаева:
В те годы было печное отопление, потом постепенно все перешли на уголь, появился водопровод, и после войны поселок организовали так: три основные параллельные улицы — Серафимовича, Горького, Лермонтова — и небольшие переулки. В Переделкине всегда было принято гулять, все писатели приезжали и гуляли. Был «малый круг» — прогулка по двум параллельным улицам, а через все три улицы — большой круг, или «вокруг света». Люди встречались на улицах, практически весь поселок был знаком между собой.
На нашей улице находится дача Чуковского — он был соседом через забор. Дальше была дача Сергея Смирнова, автора «Брестской крепости», а потом — дом Льва Кассиля
Часть писательских семей жила в Переделкине круглогодично, а часть приезжала только на лето. Мои дедушка и бабушка где-то с 1959 года жили там постоянно. В Переделкине всем давали очень большие участки, и в послевоенные годы, когда было голодно, было принято держать сторожа: в сторожку пускали жить людей, которые ничего не платили за аренду, но подметали двор и наводили какой-то порядок на участке.
Мой дедушка финансово помогал семье своего брата Евгения Петрова, автора «Двенадцати стульев», который погиб в войну и у него остались два сына. И семье моей бабушки — у нее две сестры, соответственно, их дети и внуки тоже всегда находились у нас на даче летом. Чтобы всех прокормить, бабушка и дедушка купили корову, и наши сторожа ухаживали за ней, а молоко шло пополам. Потом сторожа завели кур и еще какую-то живность и иногда давали нам, скажем, яйца, но это была уже их собственность. В какой-то момент бабушка с дедушкой держали козу, и когда у нее родился козленок, коза некоторое время жила в крошечной комнатке прямо в доме. Животные тогда были у многих в поселке.
Естественно, был огород, сад: сажали картошку, морковь, кабачки, соседи сажали всё, что только можно: у кого-то росла даже спаржа
Люди друг другу передавали семена, навыки. Остатки огорода были еще в моем детстве, но это скорее было уже баловство. А еще у нас было огромное клубничное поле — уже в пятидесятых. Сначала мама с Павликом, моим дядей, занимались прополкой клубники и срезали «усы» — это была их общественная нагрузка, — а потом уже я.
У большинства людей были собаки и кошки. Собаки бегали сами по себе, знали всех гуляющих: или проходили мимо, задрав нос, или подбегали поздороваться. Даже собаки тут тоже ходили друг к другу в гости. У нас была белая болонка Стёпка и рыжий пёс Мишка, помесь сеттера неизвестно с кем, у нас он назывался «помесь бомбы с мотоциклом». Бабушка ходила в гости с собаками к своей подруге Елене Сергеевне Лаптевой, а те приходили с братом нашего Мишки к нам в гости, и иногда собаки делали подкоп под ворота и удирали друг к другу.
По поселку сначала ходили, а потом уже ездили молочники, и мы у них покупали молоко, из которого делали творог и простоквашу
Бабушка Эстер, моя мама и дядя Павлик были любителями кофе, а дедушка пил то, что он называл «бурдоне», — кофейный напиток из злаков. Соответственно, бурдоне доставалось и мне до 13 лет, пока я не взбунтовалась и не вытребовала настоящий кофе. Обед у нас был в два часа — собирался весь дом. Всегда был суп, обязательно вегетарианский: бабушка брала рецепты у итальянцев, у наших знакомых французов, всегда было что-то навороченное и страшно вкусное. И, естественно, зелень, салаты, овощи. Делали фаршированные кабачки, Эстер делала соте и икру из баклажанов. Я до сих готовлю по ее рецептам.
Обязательным был пятичасовой чай — файвоклок. Бабушка родилась в Париже, во время Первой мировой войны ее семья бежала в Лондон и в двадцатые годы вернулась в Россию. Доставшаяся от матери тобольская традиция чаепитий с пирогами и английский файвоклок были у нее в крови. Поэтому в пять часов у нас делалась или творожная запеканка с изюмом, или пирожки из слоеного теста, но чаще всего бабушка делала настоящий английский пай с яблоками. Это было всегда, не было такого, чтобы чего-то из этого у нас не было на столе в пять часов. Люди знали, что можно позвонить и спросить, можно ли зайти на чаек, и постоянно кто-то приходил.
Естественно, не все соседи дружили, но какими-то группами было принято ходить друг к другу в гости
Среди массы народа, жившей в Переделкине, было несколько человек, которые могли приходить к нам без звонка. Калитка закрывалась на деревянную вертушку, и около этой вертушки была прорезь, то есть формально калитка закрыта, но те, кто хотят, могли просунуть руку и открыть. С Чуковским у нас был общий забор, и там тоже была калитка с такой вертушкой. Корней Иванович всегда мог прийти, как и мы к нему, но чаще всего этой калиткой пользовалась я и нагло сидела у него на голове.
Как сказки сделали Корнея Чуковского любимым детским писателем, но испортили ему жизнь
Корней Иванович — это особая для меня жизнь: помимо прочего, с ним были связаны костры «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето». На этих кострах выступала Рина Зеленая, которую мы обожали, выступал Аркадий Райкин, который жил тоже в Переделкине. Я была страшно в 4–5 лет влюблена в Райкина, и дедушка меня повел с ним знакомиться, а я пряталась за его ноги.
Без звонка к нам могли приходить Вознесенский, Евтушенко, Аксенов, Белла Ахмадулина
Те, кого открыл дедушка, когда был главным редактором журнала «Юность», продолжали приходить к нам, даже когда он ушел оттуда. Когда в Переделкине бывали Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, они тоже имели право прийти без звонка. Дом был для многих открыт. Вознесенский периодически приводил к нам знакомых: они могли ввалиться к деду большой компанией, и пока Эстер соображала, что поставить на стол, просто читали стихи. Как-то они привели Окуджаву, по чьим-то воспоминаниям, он у нас пел, но мама и Павлик этого не помнят.
Очень часто дед устраивал такие тусовки летом: выносили столик и дачные плетеные кресла, и собиралось огромное количество народу — «замечательные ребята», как их называла бабушка. Вся эта тусовка жутко творческая, они говорили об искусстве в основном — это было то, чем все болели. Всегда было красное сухое вино — было сложно его достать, и дед закупал огромные плетеные бутыли гамзы — болгарского сухого вина, которые у нас всегда стояли ящиками под лестницей. Делали сифоном содовую воду и вино пили или в чистом виде, или в виде шприца с содовой, но весь молодняк гордо отказывался: «Разведенное вино пить не будем».
В Центральном доме литераторов в Москве был буфет, где продавалось иногда то импортное вино, то мартини, то коньяк, всё это покупали тоже и хранили на случай летних тусовок. Дом всегда был открытым, гостеприимным. В общем, это была очень доброжелательная атмосфера, такой идиллический деревенский быт с единением и общением, картина ушедшего мира, времени, взаимоотношений и ценностей.
Иллюстрация: Дарья Фомичёва для «Мела»
 ilovemoscow
ilovemoscow
Полезное о столице
Новые грани любимого города
Переделкино. Поселок писателей.
Яндекс сообщил, что будет солнце и мы почему-то опять поверили. Поэтому накануне вечером мы вышли из дома без резиновых сапог и отправились в Матвеевское, чтобы переночевать у бабушки, а ранним утром оставить Федора и сесть на электричку в нужном нам направлении.
В электричке мы присоединились к основной части группы, стартовавшей с Киевского вокзала.
По-моему, предсказание погоды – самая бесполезная в мире деятельность. Дождь зарядил с утра и не прекращался всю экскурсию.
Я ни разу не достала фотоаппарат и все снимала одной рукой на телефон, потому что в другой был зонтик.
Это, конечно, немного обидно. Но зато я почти не отвлекалась от интересных рассказов.
В чем мы не прогадали в этот пасмурный выходной, так это в том, что взяли с собой напитки горячие и горячительные.
От дачи-теремка по красивым ступеням мы спустились к роднику.
К тому самому, который описывал Валентин Катаев в своем произведении «Святой колодец».
Сергей читал нам отрывок.
Как-то во время очередной экскурсии один местный житель услышал«. Старик вынимал бутылки одну за другой из мешка, полоскал в воде и ставил шеренгой для того, чтобы они высохли, прежде чем он пойдет их сдавать в станционный продовольственный магазин. Здесь были самые разнообразные бутылки – белые и зеленые – из-под вермута, зубровки, портвейна, «столичной» и «московской», кагора, рислинга, «абрау-каберне», «твиши», «мукузани» и многие другие – и среди них лилипутики четвертинок, как маленькие дети среди нищих, – и каждую из них старик тщательно полоскал снаружи и внутри и ставил одну возле другой, причем мы заметили, что, хотя ряд и удлинялся, количество бутылок в мешке не убавилось, как будто бы мешок был волшебный, и это нас немного беспокоило, подобно простому фокусу, который трудно разгадать. « и сказал, что может показать все эти бутылки и пригласить всех посмотреть как живут обычные дачники в Переделкино.
Так наша экскурсия зарулила на дачу местного жителя Андрея, где он рассказывал про своего деда, ранее проживавшего здесь и оставшуюся после него коллекцию бутылок.
Тут наши взгляды с мужем чуть разделились. Я все же считаю, что это не совсем обязательная часть экскурсии и смотреть на пустые бутылки и чужой современный быт, пусть даже заполненный памятными вещами, не так заманчиво. Но Сашка узрел среди бутылок грузинский портвейн, о существовании которого даже не подозревал и еще какую-то старую литературу.
А потом началось то, ради чего мы собственно и приехали.
Вы когда-нибудь гуляли осенью по кладбищу под дождем, слушая стихи?
Атмосферно, знаете ли.
По дороге к могиле Пастернака мы останавливались возле нескольких памятников.
Сергей рассказывал истории из жизни этих людей и читал отрывки из их произведений.
На фото справа могила поэта и переводчика Семена Липкина.
У могилы Арсения Тарковского.
Могила Виктора Фёдоровича Бокова и семейная могила Пастернаков напротив:
Самого Бориса Пастернака, его жены Зинаиды Николаевны, его младшего сына Леонида и пасынка Адриана Нейгауза.
Рядом стоит скамейка и часто люди приходят на могилу Пастернака, садятся и читают его произведения.
Про это место существует много историй, мистических и не очень. Один факт я случайно нашла, когда писала этот пост:
В 2004 году, приехав на открытие 26–го Московского международного кинофестиваля, чтобы представить свой фильм «Убить Билла–2», Квентин Тарантино первым делом попросил свозить его в Переделкино на могилу Пастернака.
Позже его переводчик рассказал, что Борис Пастернак — литературный кумир Квентина с детства, он помнит его стихи и вообще любит читать и прекрасно знает русскую литературу, также как и российское кино, начиная с фильмов Эйзенштейна и Вертова.
Тут же недалеко, прошли мимо могил Корнея Чуковского и его жены Марии Борисовны.
Не знаю можно ли применить к могильной теме, но именно умилили памятники членов КПСС.
Всех их объединяет трогательное дополнение под датами жизни.
Дальше наш путь пролегал мимо храма святого Игоря Черниговского.
У меня к архитектуре современных громоздких русских православных храмов отношение, мягко говоря, ровное.
Собственно, этот эклектичный пирог с фарфоровыми куполами в стиле храма Василия Блаженного тоже восторга не вызвал.
Но Сергей уверил, что у него особенно и очень красиво решено подкупольное пространство, благодаря многочисленным окнам, и храм всегда заполнен солнечным светом. Жалко, что он был закрыт, мы бы с удовольствием зашли.
И почему, собственно, храмы в нашей стране имеют свойство закрываться, мне тоже не очень понятно. Это же все-таки «дом Божий», у человека в любое время может возникнуть потребность обратиться за помощью, а не по расписанию.
Гулять по резиденциям простым смертным нельзя, поэтому чуть осмотрели у входа. Ну и пожалуйста.
По соседству уютно вписался скромный дачный домик Ренаты Литвиновой, очень даже не исторический.
Пишите письма!)
Как заметил мой муж: «Приусадебным хозяйством Рената Муратовна, похоже, себя не обременяет».
Сам Дом творчества.
Вообще там в саду совсем не ощущается двадцать первый век. Вот уж где благодатные декорации для фильмов о советском периоде.
Замазывать в кадре совсем ничего не нужно, разве что пару машин от входа отогнать.
И внутри дома время остановилось.
Я фанат антикварных светильников. А это уже антиквариат.)
А потом мы шли по улице, одна сторона которой прятала за высоким забором элитный новострой, а другая за просвечивающими калитками открывала чудные старые домики. Немного жаль, что домики эти разглядеть тоже было трудно, потому как у всех теперь свои новые обитатели.
Сергей рассказывал истории и байки, которые он собирает про жителей поселка.
Была особенная атмосфера и сплочение среди соседей. Дети писателей и дети работников, строивших эти дома, вместе бегали по этим дорожкам. Говорят, внук Чуковского прибегал к дому работников и его там как своего угощали молоком, потому что у них была корова.
Дальше мы додумали, что когда дети работников прибегали в дом Чуковского, добрый дедушка Корней кормил их сказками.
Дом-музей Пастернака единственный, который удалось рассмотреть вблизи.
В сам дом не заходили. Это уже отдельная экскурсия по желанию.
Очередной рассказ про обитателей этой дачи я уже случайно прослушала.
Просто стояла и представляла себе, как из-за занавесочки на меня смотрит привидение, а под крышей ходят чьи-то тени.
. Вот дача, где осенью 1974 года после мытарств и страданий свел счеты с жизнью поэт и драматург Геннадий Шпаликов.
А позже здесь долгое время жил и работал писатель Сергей Козлов. Тот самый, чьи сказочные истории про ёжика и медвежонка мы теперь постоянно читаем с сыном.
И это был последний дом в нашем маленьком путешествии.
Современное Переделкино: сколько стоят дома в поселке советских писателей
Знаменитому стародачному поселку Переделкино, расположенному за Солнцево в 5 км от МКАД, уже больше 80 лет. Сегодня Переделкино входит в черту Москвы и относится к Новомосковскому административному округу, к нему почти вплотную подступают многоэтажки района Ново-Переделкино.
Эксперты рынка недвижимости рассказали, что представляет собой писательский поселок сегодня и сколько стоят в нем дома.
Дачи писателей
Считается, что идея создания поселка принадлежит Максиму Горькому, который предложил Сталину выделить в Подмосковье место под дачи, где могли бы отдыхать и работать советские писатели.
Поселок возвели около реки Сетунь к 1935 году, он состоял из 50 участков с дачными домами для видных литературных деятелей. В разные годы в Переделкине жили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Ираклий Андроников, Константин Паустовский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Анатолий Рыбаков и другие литераторы.
Предложение
Сегодня Переделкино — типичный элитный поселок, говорят риелторы. В настоящий момент там выставлено на продажу, по разным данным, от 20 до 40 загородных домов. В компании «Метриум» уточняют, что это вторичные, но в основном современные коттеджи.
По данным аналитиков компании, средняя площадь домов в Переделкине составляет около 500 кв. м, хотя есть объекты от 80 кв. м до 1200 кв. м. Дома в основном кирпичные, деревянных уже мало. Значительная их часть возведена в 2000-е годы, но есть и совсем новые, и построенные в конце прошлого века. В основном дома продаются с ремонтом, в хорошем или отличном состоянии. Средний размер приусадебных участков — 20–25 соток, однако можно найти и шесть соток, и половину гектара. В поселке есть все коммуникации, на многих участках стоят бани, гаражи, беседки.
«В свое время деятелям советской литературы предоставляли очень большие участки: от нескольких десятков соток до 2–3 га. В 1990–2000-е годы наследники начали продавать здесь землю, которая в тот момент высоко ценилась, — пояснил Илья Менжунов. — Иногда продавали части участков, поэтому некогда огромные имения были нарезаны на относительно небольшие владения. По сути, здесь получился один из образчиков стихийной коттеджной застройки, где старые деревянные дачи перемежаются с дворцами из 1990-х по 1 тыс. кв. м и современными более скромными домами из 2010-х. Поэтому в стародачном писательском поселке сегодня можно найти самые разные объекты».
Спрос
Несмотря на историческую нагрузку, спрос на дома в Переделкине небольшой и не превышает популярность престижных поселков на Рублевке, Новой Риге или Дмитровском шоссе, говорят эксперты загородного рынка. Среди покупателей элитного жилья такие места особой популярностью не пользуются — их больше интересуют дома в современных организованных коттеджных поселках с инфраструктурой и более однородной социальной средой. Постоянного состава жителей в такого рода местах уже нет — потомки первых обитателей писательских дач стремятся монетизировать доставшиеся им активы.
Цены
По данным «Инком-Недвижимости», общая стоимость всех выставленных на продажу объектов в Переделкине достигает 7,5 млрд руб. Средняя цена домовладения — около 120 млн руб., но есть предложения поскромнее — например, за 13 млн руб. продается кирпичный дом площадью 80 кв. м с участком в восемь соток. Стоимость дорогих предложений, по данным компании Welhome, достигает 600 млн руб.
«На загородной «вторичке», особенно элитной, владельцы жилья склонны значительно переоценивать свои дома, притягивая к этому самые разные факты, в том числе и особенности локации, — отмечает Дмитрий Таганов. — Однако я бы не сказал, что в реальности статус Переделкина может значительно поднять стоимость лота. Тем более что сейчас творческой интеллигенции там осталось мало».
Плюсы и минусы
Главные преимущества Переделкина сегодня — это близость к Москве, хорошая экология, лес, музеи писателей в пешей доступности. К минусам эксперты относят дороговизну предложений, а также строящиеся неподалеку кварталы многоэтажек, что в перспективе грозит ростом плотности населения и ухудшением трафика.
Кроме того, в Переделкине до конца не урегулирован вопрос с принадлежностью участков. Как рассказал Илья Менжунов, часть домовладений была приватизирована в 1990-е годы, но значительная доля земель не имеет собственника. Писательские дачи предоставлялись в аренду, а их собственником был Литфонд СССР. После распада страны возник вопрос — кому принадлежит земля, и ответ для многих участков еще не получен, судебные разбирательства продолжаются. Для покупателей дорогостоящего жилья, вкладывающих миллионы долларов в свои приобретения, такая неопределенность — это стоп-сигнал, поэтому они часто отказываются от покупки домов.









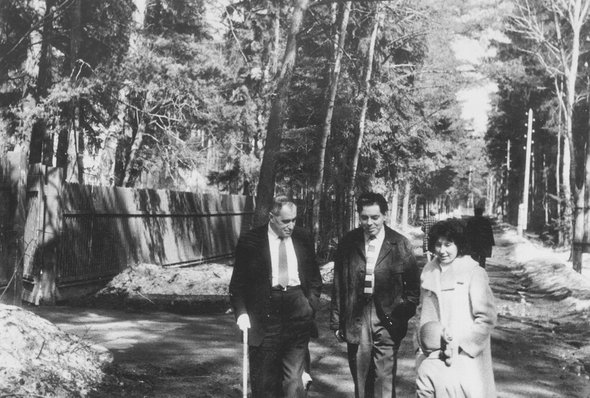
 ilovemoscow
ilovemoscow






























